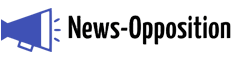Дорогие читатели! Вы не смогли бы прочитать этот материал, если бы «Медуза» подчинялась цензуре. Мы работаем, чтобы у вас всегда был доступ к настоящим новостям. Но сейчас нам очень нужна ВАША ПОДДЕРЖКА. Только от вас зависит, будет ли завтра «Медуза».
Хочу поддержать
«Медуза» работает для тех, кто хочет видеть реальность такой, какая она есть.
Группа экспертов из России, которые пожелали остаться анонимными, подготовила исследование об изменениях, произошедших в российском школьном образовании после начала большой войны России с Украиной. В работе они проанализировали как общие тренды, например количество обучающихся детей и состояние зданий школ, так и более частные изменения. В первую очередь речь о всепроникающей пропаганде в школах и увеличившейся нагрузке на учителей (при их нехватке). Проект Re: Russia пересказал новое исследование. «Медуза» публикует текст с незначительными изменениями.
Аудиоверсию этого текста слушайте на «Радио Медуза»
подкастыКак изменилась школа в России за годы войны? Независимое исследование
Как образование стало «суверенным»?
Начавшаяся в 2022 году «специальная военная операция» мгновенно отозвалась в российских школах. Уже в первые дни после начала боевых действий власти решили донести до детей официальную позицию. 3 марта 2022 года прошел общероссийский «урок», где школьникам объясняли причины «спецоперации» и роль НАТО в происходящем. Вслед за политизированными «уроками» российские власти внедрили в школьную жизнь и новые ритуалы. Теперь каждая учебная неделя начинается с подъема флага и исполнения гимна. Во всех школах введены формально внеурочные, но на деле обязательные еженедельные «Разговоры о важном» — классные часы, проводимые по утвержденному властями сценарию. А теперь еще — и пронизывающий весь учебный год «календарный план воспитания» школьников.
«Суверенная система образования — мы все время говорим о суверенитете в разных ипостасях. Это чрезвычайно важная, базовая абсолютно вещь. Причем будем это делать на всех ее уровнях — от школы до колледжей и вузов» — такими словами Владимир Путин дал старт Году педагога в 2023 году. Настоящий доклад фиксирует, как происходит и в чем выражается «суверенизация» школы.
Это прежде всего усиление вертикали управления и свертывание школьной автономии. Сначала они происходили на неформальном уровне, но постепенно приобрели четкие формы. Речь об отказе от вариативности программ обучения, и идеологизации как учебных программ, так и программ «воспитания».
Все это сопровождается высоким уровнем давления на несогласных. Учителя, выражающие антивоенную позицию, подвергаются увольнениям и даже уголовному преследованию. Широкую огласку получила история московской учительницы Натальи Таранушенко, которая сказала восьмиклассникам, что считает действия России агрессией. Против нее возбудили уголовное дело о «распространении фейков об армии», и педагогу пришлось бежать из страны, чтобы избежать тюрьмы.
Похожим образом весной 2022 года была наказана учительница истории из Пензы Ирина Ген, чьи критические высказывания о войне записал на диктофон ученик, — ее оштрафовали и уволили.
Репрессии коснулись также самих школьников и их родителей: в марте 2023 года в Тульской области был осужден на реальный срок отец шестиклассницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, а сама девочка попала в социальный центр.
Во многих школах фактически сложилась обстановка, при которой любое инакомыслие карается, а доносы поощряются. Учителя признаются, что работают «под угрозой доносов», а директора напрямую предупреждают их «быть осторожнее в высказываниях».
Еще одной стороной «суверенизации» стала изоляция российской школы от внешнего мира. Российское правительство объявило «нежелательными организациями» как программу международного бакалавриата, так и систему сертификации знания иностранных языков, чтобы отрезать российских учащихся от возможности поступления в иностранные вузы.
Кроме того, Россия вышла из международных исследований качества образования, таких как PISA и TIMSS. Они позволяли проследить динамику изменений в образовании и его качество. Рособрнадзор совместно с Минпросвещения заявил о разработке аналогичных национальных инструментов, которые, однако, лишат российские учебные заведения возможности сопоставления результатов с другими странами и затруднят соблюдение международных образовательных стандартов.
Общая картина состояния российской школы
В период с 2021 по 2024 год количество государственных общеобразовательных организаций в России сократилось на 3,3% — с 43 420 до 42 003 школ. В основном — в сельской местности.
В то же время есть рост негосударственного сектора: число частных школ увеличилось на 12,5% в городах (с 777 до 874) и на 6,6% в селе (с 91 до 97), но их доля составляет всего 2,3%.
В 2021 году в России было 154 общеобразовательные организации с военной или гражданской служебной направленностью. К 2024-му таких школ стало 160. Кроме того, более 43 тыс. учеников 8–11 классов обучаются в кадетских классах, что составляет около 0,9% от общего числа учеников. «Кадетский» профиль занимает третье место по популярности после инженерного и педагогического.
О состоянии школьных помещений
За последние десятилетия темпы возведения школьных зданий не успевали покрывать износ советской застройки, отчего сегодня остро стоит проблема капитального ремонта многих «возрастных» школ. В 2023 году 28,5% всех государственных школ в России нуждались в ремонте.
Ситуация с водоотведением, водопроводом и отоплением умеренно неплохая — их нет только в 6–7% школ.
С 2021 по 2023 год доля школ без водопровода снизилась с 8,1 до 6,9%, доля школ без канализации — с 8,9 до 7,5%, без центрального отопления — с 7,4 до 6,4%. В отдаленных и северных регионах ситуация гораздо хуже: например, в Республике Саха (Якутия) более половины образовательных учреждений полностью лишены внутришкольных систем водоснабжения и санузлов.
Доля аварийных школ снизилась с 0,79 до 0,72%. В то же время доля школ, нуждающихся в капитальном ремонте, выросла с 25,6 до 28,5%. Это остается главной инфраструктурной проблемой российской школы.
При этом большинство проинтервьюированных в рамках данного исследования учителей оценивают состояние зданий и благоустройство школ как удовлетворительное. Но нередко упоминают устаревшее техническое оснащение: компьютеры, проекторы, принтеры и интерактивные доски.
Читать
Численность педагогических работников за последние три года сократилась на 19 тысяч человек (—1,8%), что на фоне роста числа учащихся увеличило нагрузку на учителей. При этом доля вакантных должностей остается практически неизменной — около 2,8%.
Материальное состояние российской школы на сегодняшний день можно считать удовлетворительным, хотя и не вполне благополучным. При этом ситуация в большой степени зависит от экономического положения региона.
Как власти централизуют систему образования?
В 2022 году началось разрушение сложившегося баланса между федеральной, региональной и муниципальной властью. Система управления школьным образованием в последние годы движется по пути усиления централизации.
На федеральном уровне управленческую иерархию в области образования возглавляет Министерство просвещения. Оно формирует государственную политику в сфере образования и утверждает образовательные стандарты (ФГОС). Однако де-юре министерство напрямую не управляет региональными и муниципальными школами.
Далее в этой иерархии следуют региональные министерства просвещения, которые контролируют реализацию образовательной политики в субъектах Федерации: назначают руководителей муниципальных отделов образования, разрабатывают региональные программы и управляют подведомственными школами (гимназиями, лицеями и интернатами). На муниципальном уровне органы власти управляют школами напрямую, включая назначение и увольнение директоров. На практике подавляющее большинство школ подведомственны именно муниципалитетам.
Согласно части 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ, учредитель имеет право расторгнуть трудовой договор с директором школы в любое время без объяснения причин. Это создает широкие возможности контроля, в том числе за рамками прямых обязанностей. Так, в 2024 году директор школы в иркутском поселке Замзор Татьяна Шандалева была уволена после выборов главы района, на которых кандидат, поддерживаемый властями, получил низкие результаты на расположенном в школе избирательном участке.
Несмотря на формальное разграничение полномочий в системе школьного образования, на практике она функционирует как единая вертикаль управления: директора школ подчиняются муниципалитетам, те — региональным властям, а регионы следуют федеральной политике. При этом, несмотря на формальное отсутствие прямого управления, де-факто Министерство оказывает значительное влияние на их деятельность посредством обязательных к исполнению стандартов, программ, методических рекомендаций и указаний. Например, в письме от 8 июня 2023 года Министерство акцентировало внимание на совершенствовании системы патриотического воспитания, что свидетельствует о централизованном подходе к формированию воспитательной политики.
Как изменилась школьная программа?
С 2022 года школьное образование в России претерпело масштабные изменения. Главным новшеством стали единые Федеральные основные образовательные программы (ФООП), введенные принятым 24 сентября 2022 года законом № 371-ФЗ. Этот документ положил конец принципу вариативности учебных программ, позволив государству полностью контролировать содержание обучения.
Как заявила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова, «вариативность, примерность, неопределенность» — все это наносит «большой вред» при изучении «формирующих ценности предметов». Официально же ФООП позиционируются как шаг к облегчению перевода учеников из школы в школу.
В отличие от ФГОС, который задает общие рамки, ФООП предписывает, что именно и в какой момент должны изучать школьники. Речь идет не о целях обучения, а о конкретном содержании: произведениях, темах, фактах, понятиях. Учителям предписано строго следовать этой программе — особенно по «идеологически значимым» дисциплинам: истории, литературе, обществознанию, ОБЖ, географии и русскому языку.
При этом ФООП имеет достаточно высокий уровень детализации. Например, в программе начальной школы значительное место занимают десятки языков народов РФ, а также «обязательные» мероприятия вроде празднования Всемирного дня театра.
В средней школе появляется «новая» история, начинающаяся с событий 2014 года, а в старшей — нарастает идеологический акцент. Так, в учебной программе 10–11-х классов по истории прописано: «Государственный переворот на Украине 2014 года и позиция России. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия… Специальная военная операция… Санкции против России и их последствия». Среди требований к результатам — умение «давать отпор попыткам фальсификации российской истории» и искать информацию с учетом «информационной безопасности».
Унификация содержания затронула и школьные учебники. Государство теперь контролирует не только их заказ, но и авторские коллективы. Предполагается, что на каждый предмет останется один базовый и один углубленный учебник на всю страну.
Предмет ОБЖ был переименован в «Основы безопасности и защиты Родины». На курсе теперь изучают стрелковое оружие, уставную жизнь в армии, сигнал «Внимание всем!» и цифровую безопасность. История стала предметом «ценностного» воспитания: слово «церковь» теперь пишется с большой буквы, а из описаний реформ Александра II исчезли упоминания о движении к правовому государству. Убраны и такие темы, как политический терроризм или внешняя политика Николая II.
Кроме того, в начальной школе число аудиторных часов выросло с 3190 до 3345, в основной — с 5549 до 5848. Еще исчез курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (прежняя версия «основ религиозной и светской этики»). В 10–11-х классах убрано упоминание о «поликультурном социуме», повсеместно добавлены формулировки о «традиционных ценностях».
Насколько распространены внеучебные «Разговоры о важном»?
Впервые «Разговоры о важном» упомянуты в письме Минпросвещения от 17 июня 2022 года. В нем они описаны как часть внеурочной деятельности — еженедельные просветительские встречи патриотической, нравственной и экологической направленности. Предполагалось, что материалы для занятий будут централизованно разработаны и доведены до школ и колледжей.
В следующем письме от 27 июня использованы сразу две формулировки: с одной стороны, говорится о «необходимости запланировать» «Разговоры», с другой — «рекомендуется включить» их в программу. При этом «Разговоры о важном» упоминаются как «классный час». В последующих документах они называются то «занятиями», то «проектом».
По закону школа должна самостоятельно разрабатывать образовательную программу, включая блок внеурочной деятельности. С 2022 года, помимо соответствия ФГОС, школы обязаны соблюдать и федеральную образовательную программу — более конкретный документ. Но в этих программах «Разговоров» нет, а значит, они не входят в обязательный перечень образовательных мероприятий. Формально навязать школе конкретные занятия федеральные власти не могут.
Тем более это невозможно для регионов и муниципалитетов, которые и вовсе не уполномочены определять содержание образования. Однако в условиях централизованной вертикали министерство оказывает давление на школы через региональные и муниципальные органы, а те — через директоров школ, которые находятся в зависимости от учредителей. Именно эта система делает «Разговоры о важном» фактически обязательными, несмотря на отсутствие законодательной и нормативной основы. При этом некоторые частные школы такие занятия не проводят.
Наиболее логичная и стабильная позиция Минпросвещения России — трактовка «Разговоров» как внеурочной деятельности. Однако, согласно ФГОС, учащийся должен иметь возможность выбора внеурочной дисциплины. Это означает, что «Разговоры о важном» не могут быть навязаны как ее единственный вариант.
Эти правовые казусы могли бы стать предметом судебного разбирательства, но данных о таких случаях нет. Известны лишь дела, связанные с привлечением родителей к административной ответственности за то, что они отказывались пускать детей на «Разговоры».
Согласно закону каждая школа обязана организовывать внеурочную деятельность, в том числе кружки и секции. Хотя кружки — это не внеурочная деятельность, а дополнительное образование, на практике их действительно включают во внеурочную деятельность. Максимально допустимая нагрузка для внеурочной деятельности — 10 академических часов в неделю. На практике школы нередко отчитываются за нее кружками и мероприятиями, которые проводят другие организации по заявлению родителей.
По данным соцопроса, проведенного в рамках этого исследования, участие школьников в таких мероприятиях стало почти всеобщим. Около 90% родителей независимо от региона отмечают, что их дети посещают обязательные внеучебные школьные занятия.
При этом треть респондентов говорит, что дети стали проводить на обязательных внеучебных мероприятиях больше времени, чем раньше. Особенно это заметно в 7–11-х классах.
Почему школы теперь должны не только образовывать, но и воспитывать?
Формально термин «воспитание» был заново определен и расширен поправками к федеральному закону об образовании (№ 273-ФЗ), принятыми в декабре 2023 года.
Воспитание здесь определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации».
Определение «воспитания»
Кроме того, понятие «духовно-нравственные ценности» в исходном тексте закона было тогда же повсеместно заменено на «традиционные российские духовно-нравственные ценности».
Однако куда более ощутимым стало принятие в 2024 году закона № 371-ФЗ, который сделал обязательными элементами образовательных программ «федеральную рабочую программу воспитания» и «федеральный календарный план воспитательной работы».
Федеральный календарный план воспитательной работы содержит 42 праздничные даты, включая приходящиеся на июль и август, когда уроков обычно нет. Он расписывает тематику мероприятий и организации, ответственные за их проведение или разработку примерных планов. Таким образом власти устанавливают идеологический контроль над характером «воспитательной работы».
Как на происходящее реагируют учителя?
В проведенных интервью некоторые учителя приветствовали усиление воспитательной функции школьного образования. «Это прекрасно, что патриотическое образование стало обязательным. Когда росло поколение, которое мечтало только о том, чтобы после окончания элитного учебного заведения уехать из России, [у меня] возникал вопрос: а ради чего мы работаем, готовим лучших?» — говорит мужчина 50 лет из Свердловской области.
При этом сами формы воспитания вызывают у учителей вопросы, но чаще претензии касаются обязательности и бюрократизации, а не сути процесса. «Часть мероприятий из-за загруженности учителей и тех, кто их проводит, все равно превратилась в галочки, фотоотчеты и новости, выхлоп у этого слабый», — отмечает мужчина 37 лет из Ростовской области.
Некоторые учителя с антивоенной позицией, напротив, заявляют о внутреннем конфликте, который вызывают у них «Разговоры о важном» и патриотические акции: «Когда начались „Разговоры о важном“, я сказала, что не буду это вести по идеологическим соображениям», — рассказывает учительница 28 лет из Свердловской области.
Также в интервью учителя иногда жалуются, что внеурочные мероприятия отвлекают школьников и педагогов от основного учебного процесса и перегружают их: «Ничего страшного нет в том, чтобы поговорить о патриотизме, посадить деревья, поучаствовать в мероприятии. Но этого настолько много, что мы просто физически не успеваем вести свои обычные уроки».
Некоторые учителя, не разделяющие установок властей, находят способы их обойти — от фиктивных отчетов до саботажа. Тем не менее полностью игнорировать требования системы школьного образования невозможно, что рождает конфликт между необходимостью «отчитаться» и невозможностью или нежеланием выполнять задачи, спускаемые «сверху».
«Добровольно-принудительная система привела к галочной системе. Провели выставку, сфотографировали, отправили — и все. Бывает так, что дети даже не знают, что можно было посетить выставку, потому что все свелось к галочке», — рассказывает респондент из Ростовской области.
«Директора пытаются максимально отползать. Они говорят: „Да-да-да, обязательно, в следующем месяце“ — и откладывают. Не спорят открыто, но и не выполняют», — объясняет участница опроса из Свердловской области.
Таким образом, даже в условиях централизованной модели управления школами часть педагогов сохраняет индивидуальную позицию и находит пространство для маневра. Однако общий тренд на усиление внеурочной и идеологически окрашенной нагрузки сохраняется — и отступление от него требует значительных усилий.
Можно ли не проводить новые мероприятия?
Нововведения и идеологизация школы привели к росту нагрузки на учителей. В результате роста численности учеников (о чем говорилось выше) в среднем по стране нагрузка увеличилась с 1,43 до 1,53 ставки на одного педагога, а в некоторых регионах, например в Иркутской области, она доходит до 1,68. Такая ситуация во многом обусловлена нехваткой кадров и невысокой заработной платой, вынуждающей педагогов брать дополнительные часы.
Кроме того, традиционной проблемой остается «классное руководство». Формально эти функции могут возлагаться только по дополнительному соглашению к трудовому договору, то есть на добровольной основе. На практике же отказ от классного руководства возможен лишь с согласия администрации. «Поскольку есть дефицит кадров, классное руководство, хочешь не хочешь, приходится брать», — делится преподавательница 30 лет из Пензенской области.
В интервью учителя говорят, что еще до начала большой войны нагрузка на педагогов была высокой, особенно для классных руководителей. Необходимость брать дополнительные часы, совмещать роли и организовывать внеклассную работу стала нормой в условиях хронической нехватки кадров и невысоких зарплат.
Учителя сталкиваются с ростом как учебной, так и административной нагрузки, расширением перечня обязанностей и усилением контроля со стороны администрации. Одновременно усиливается административное давление: растет число поручений, выполняемых без официальных приказов и компенсаций. Низкий уровень оплаты труда также остается одной из наиболее устойчивых тем обсуждений. Для повышения дохода многим приходится брать дополнительные часы.
На этом фоне в результате новых требований к внеурочной деятельности и воспитательному процессу в последние годы существенно выросла внеурочная нагрузка на учителей. Если до 2022-го речь шла о традиционных мероприятиях — конкурсах, экскурсиях, тематических встречах, то теперь к ней добавились новые форматы: уроки «Разговоры о важном», проект «Россия — мои горизонты», сборы помощи для военных и написание писем на фронт.
Проведение таких мероприятий — это показатель лояльности, поэтому они находятся под пристальным контролем. Все это увеличивает нагрузку и на учеников, и на учителей.
«Последние два года это не просто ощутимо, мне кажется, мы уже перестали учиться. У нас только внеучебные активности: „Движение первых“, волонтерские движения, „Билет в будущее“, „Разговоры о важном“… Детей все время куда-то дергают», — рассказывает учительница 40 лет из Пензенской области.
«Я же помню времена, когда я действительно работала ради детей в школе. Мы проводили мероприятия, которые интересны детям, которые им нужны. А сейчас? Мы проводим то, что нам сказали провести», — считает преподавательница 56 лет из Иркутской области.
Помимо этого, в Москве педагогов бюджетных учреждений заставляли участвовать в подготовке к выборам — например, обязывали привести на голосование знакомых с московской пропиской, угрожая при этом лишением премий.
В некоторых школах учителей обязывали организовывать встречи с участниками войны, формализовывать их результаты и публиковать идентичные отчеты о встречах, подчеркивая «скромность» военных и «воспитание чувства гордости» у школьников.
«Дополнительная занятость» иногда выходит даже за пределы образовательного учреждения, влияя на эмоциональное состояние учителей. Так, на Дальнем Востоке и в Бурятии педагоги в 2022–2023 годах были привлечены к раздаче мобилизационных повесток. В Ростовской области учителей запугивали за отказ голосовать на выборах за «конкретную политическую силу».
Таким образом, возложенные на учителей дополнительные функции «идеологического воспитания» становятся не только обязательными, но и принудительными. Отказаться от них невозможно, даже если возникающая дополнительная нагрузка не оплачивается.
Re: Russia